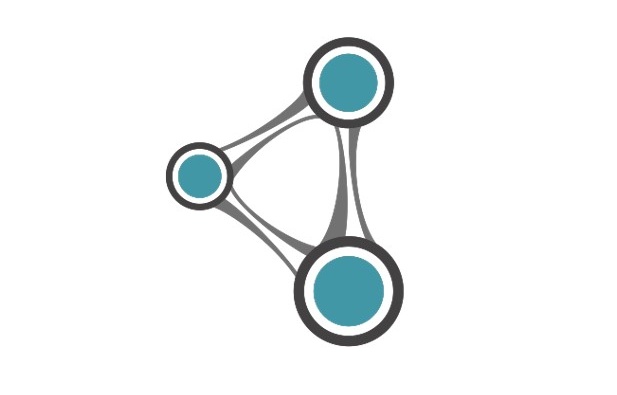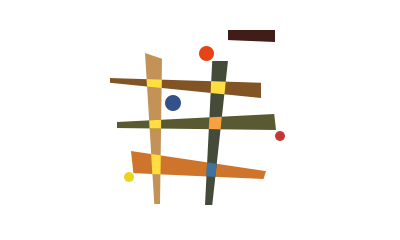Чтобы воспоминания тех, кто пережил войну, передавались из поколения в поколение, чтобы мы знали и помнили о том, какие трагедии выпали на их долю и через какие трудности пришлось пройти, начинаем цикл уникальных интервью с ветеранами, прошедшими Великую Отечественную войну и трудившимися в послевоенные годы на нашем предприятии.
Открывает цикл воспоминаний беседа с Еленой Ивановной Усатиковой, наполненная невероятной силой духа. Ее история о том, как будучи совсем маленькой девочкой она лицом к лицу встретила войну, которая не пощадила никого. Она рассказала, как ребенком пережила фашистский концлагерь, как с сестрами искали пропитание, о возвращении домой и о том, как сложилась жизнь после войны.
Эти воспоминания — ценные свидетельства прошлого — найдут отклик в сердцах каждого из нас, напомнив об истинных ценностях жизни.
Детство и начало войны
Я родилась 14 августа 1935 года в Смоленской области в деревне Кузьмино Батуринского района в большой крестьянской семье. У меня были три сестры и брат, я по старшинству была предпоследняя. Моя мама – Анна была замужем во второй раз за моим отцом Иваном Бесовым, поэтому старшие брат и сестра у меня были единоутробные, от ее первого брака с Николаем Соловьевым, погибшим в Японскую, что ли, войну. Моего брата Сашу за полгода до начала Великой Отечественной войны призвали в армию. А старшая сестра – Пелагея, Поля по-домашнему – была замужем в соседней деревне. Я помню, как началась война, мне почти шесть лет было. Помню, как мама плакала, что сын Саша теперь непременно попадет на фронт. Мы о нем никаких известий не имели. Скоро и муж Поли ушел воевать, и она переехала к нам.
Помню, как через нашу деревню батальоны шли – регулярная армия двигалась на фронт. Дом у нас стоял на краю деревни, и мама говорила: «Девки, если увидите солдатиков на горочке, сразу сообщайте мне и бегите к соседям, скажите, что солдатики идут». Все наши сельчане сразу выносили табуретки, скамеечки, доставали хлеб – его заранее пекли, и старались побольше напечь. Приносили сало, молоко. Словом, кто что мог выносили на улицу, угощали этих солдатиков. А мы – ребятишки клали хлеб в подол и бежали вслед за этими солдатиками, совали им куски в руки. Они брали с удовольствием. Может, голодны были, а может, видели, что дети от всего сердца дают и брали, чтоб не обижать.
Прошло совсем немного времени, и над нашей деревней стали летать вражеские самолеты, начались бомбежки. Поначалу, завидев их, мы сразу бежали прятаться кто куда – кто в овраг, кто в подпол… не понимали, что если бомба в дом попадёт, то и хоронить некого будет. Но в подполе хоть от осколков можно было укрыться. Потом немного привыкли к этим обстрелам. Нам детям не столько страшно было, сколько интересно, мы в небо смотрели и кричали: «Самолеты, летят самолеты!» Взрослые говорили: «Не бойтесь, это наши летят» – научились по звуку отличать наши самолеты от фашистских. Только наши пролетели, следом летят еще. «О, – говорили взрослые, – это немецкие! Сейчас начнется воздушный бой!» И вот начинается: самолеты друг в друга стреляют. Смотрим, один самолет загорелся и полетел к земле – летит и горит. Упал где-то в лесу – дальний грохот взрыва и всё. У нас в Смоленской области леса дремучие были.
Однажды летом моя мама пошла в лес за ягодами. Ходила, собирала, вдруг видит – парашют на ёлке висит. Она походила тихонечко, прислушалась. Слышит стон. Пошла на этот звук и нашла молодого парня. Он ей: «Мамаша, мамаша, не бойтесь, я свой. Подойдите ко мне, не бойтесь». Мать слышит, по-русски парень чисто говорит – подошла: «Сынок, ты чего?»
– Я второй день тут лежу, ранен, помогите мне.
– Сейчас, сейчас, сынок, я тебе помогу.
Она покормила его ягодками, сколько набрала и бегом домой – подмогу звать. Прибежала из лесу и кричит моему отцу: «Вань, Вань! Беги скорее к председателю, запрягай лошадь, бери мужиков. Лётчика нашла в лесу, надо его сюда привезти». Нашла домотканую дерюгу, постелила на телегу. Отец запряг лошадь, взял мужиков, и поехали за раненым. Лошадь оставили на опушке, мужики лётчика из леса на руках вынесли. Звали его Лёша Савин.
Привезли его к нам домой, и стали мы его выхаживать. Он у нас сначала в доме жил, а потом мы узнали, что в соседнюю деревню приехали немцы. Стоят они в Матренино за пять километров от нашей деревни. Тогда мужики перенесли Лёшу из дома на зады – у нас там был большой двор для скота с бревенчатым сеновалом. И на этом сеновале мы устроили Лёшу. Как только немцы появлялись в деревне, мы убирали приставную лестницу на сеновал – клали ее в крапиву, чтобы не видно было, а то ведь они могли догадаться, что на сеновале кто-то есть. Конечно, самим поднять раненого на ноги было затруднительно – ему требовалась медпомощь. К счастью, по соседству жила фельдшерица Нина Михайловна, она работала в медпункте, который находился за 5 километров от нашей деревни – в Шаракино, там же, где и сельсовет был. Нина Михайловна помогала нам Лёшу выхаживать, приносила нам бинты и лекарства. Так общими усилиями мы его выходили. А когда Леша поправился, он организовал партизанский отряд.
Немцы из соседней деревни каждый день приезжали к нам в Кузьмино, брали в домах, что хотели: хлеб, мясо, яйца. Нас заставляли кур ловить. Наловим, они забирают и увозят. И вот Леша организовал партизанский отряд. Из нашей деревни в него вошел мой отец Иван Бесов, сестра Поля, учительница Марья Григорьевна, и двое пожилых мужчин. Был еще старый дед, но не в партизанах, а так просто помогал, продукты им возил втихаря. Отряд был немаленький, из окрестных селений в него тоже многие пошли. Партизаны скрывались в большом лесу, тянувшемся от Матренина до Кузьмина, и непрестанно колошматили немцев. От этого фашисты стали ужасно злющие. Приезжали к нам в деревню, издевались над жителями, громили всё в домах, разбивали иконы.
Как-то раз летним утром из лесу за продуктами пришел отец и с ним Поля. Мама им собирала, что могла, соседи кое-что приносили. А они придут из леса тихонечко и все заберут. Так и в тот день было. Мама посадила их завтракать. Мы все сидели за столом, а Поля повернула голову к окну и вдруг говорит: «Мама, давайте прощаться, – и расплакалась, – немцы, окружили наш дом». Откуда немцы узнали? А от предателя местного. Когда война началась, у нас в деревне один мужик пропал – Васька Цветков по прозвищу Лупа. Когда мужиков из деревни на фронт забирали, он в лесу спрятался и воевать не пошел. Когда немцы пришли в нашу деревню, он решил, что фашисты в войне победят, ведь они уже близко к Москве. И решил Лупа переметнуться к немцам. Узнал, что организован партизанский отряд, из какой семьи партизаны, да и выдал всё фрицам. Они вошли в дом, схватили отца, Полю, нас всех из дома выгнали, и стали над нами издеваться. Собрали всех деревенских жителей на площадь возле правления колхоза. Из этой толпы вызвали учительницу и тех двоих пожилых мужиков-партизан. У Поли была коса длинная, толстая. Они за косу привязали мою сестру к лошади и пустили ее вскачь по кругу. А фриц кричит сельчанам: «Смотрите, кто будет против нас – и с вами то же самое случится!» Потом немцы собрали наших партизан и погнали их из деревни в сторону Матренина – хотели в комендатуру доставить и допрашивать, чтоб узнать, где остальные партизаны скрываются. И Васька Лупа с ними ушел. Но по дороге на немцев напали партизаны из отряда Савина – надеялись своих отбить, завязалась перестрелка. И тогда немцы велели Ваське наших пленных родных расстрелять.
Мы в деревне дня два-три ничего не знали о судьбе близких, но кто-то слышал стрельбу в той стороне, и люди стали догадываться, что наших партизан расстреляли. Решили идти их искать, так и думали, что валяются они где-нибудь там убитые. Пошли в сторону Матренина, и нашли их всех мертвыми. Забрать в деревню побоялись – немцы же приезжали каждый день – и похоронили наших партизан на месте гибели в братской могиле.
Тяжесть депортации и концлагеря
Но для нашей семьи злоключения не закончились – они еще, можно сказать, только начинались. Как только немцы приезжали в нашу деревню, так сразу к нам в дом шли. Кричали: «Матка, где партизан?» Мама отнекивалась: «Я не знаю, где партизаны».
– Они в лесу? – наседали фрицы. – Где в лесу – там, там или там? – тыкали во все стороны автоматом.
– Вы же их расстреляли, – говорила мама, – Нет больше партизан, нет.
Тогда немцы велели нам сестрам становиться в один ряд: «Киндер-партизан, вставайте!»
И вот стоим мы перед ними – четыре девочки: старшей – Тоне было 14 лет, потом Валя, потом я, а младшей – Инне два года, она в 1939 году родилась. Немец дулом автомата водит, в нас целится и орет:
– Матка, говори, где партизан? Где? Там? Или там? Где?
Мама плачет.
– Да не знаю я, где партизаны, не знаю.
– Сейчас будем пок-пок-пок их! – выкрикивает немец и палит из автомата поверх наших голов.
Маме делается дурно, она падает. И эта сцена повторялась много раз. Как только немцы заезжали в нашу деревню со стороны Матренина, к нашему дому, стоявшему на другом конце, бежали соседи – предупредить, чтоб мы начеку были. Потом стало еще хуже. Немцы перебрались на постой в наше Кузьмино. Нас жителей согнали всех в один дом и охрану у двери поставили. Так мы и ютились там – семь-восемь семей в этом доме. А немцы в наших домах жили. Прошло несколько недель. И вот в декабре 1942-го немцы стали отступать. Собрались уезжать из нашей деревни. И нашу семью – семью партизан – погнали в плен. Васька Лупа пришел и говорит моей маме:
– Тётка Анюта, собирайтесь. Мы уезжаем, и вы с нами.
– Да куда же? – в страхе спрашивает мать.
– Куда придется, туда и поедем, – зло сказал Васька.
Так немцы и угнали нас. Среди пленных были люди и из других деревень – целый обоз шел. Взрослые шли пешком. Дети, которые совсем маленькие – на санях, а постарше – пешком вместе со взрослыми. Долго мы шли. Целыми днями. На ночевку нас останавливали в какой-нибудь попутной деревне или в городе, помещали нас в чужие дома, хозяева нас кормили. А наутро мы опять куда-то тащились.
Пришли в Белоруссию и остановились в маленькой деревне Мехово. Нас всех поместили в конюшне. Лошадей там не было, только сено, солома. Вот нас и загнали туда. А сами немцы стали на постой в деревне. Прожили мы в конюшне месяц, а может и больше – я маленькая была, не помню. Взрослых немцы выгоняли на работу. Снег чистить заставляли, еще что-то… И всех нас таскали кровь брать – это самое страшное было. Сначала нас потащили в большой дом в деревне – там наверно канцелярия раньше была. В этом доме немцы устроили что-то вроде лаборатории. Наштамповали нам на ногах номера, поставили по стеночке и у всех по очереди брали кровь. Видимо, (это я уж теперь понимаю) определили, у кого какая группа крови, и дальше стали таскать нас по списку: смотрят в бумажку и на номер на ноге. Мы стоим и трясемся, думаем: возьмут или не возьмут. Немцы отбирали, кто им нужен, в сторонку, а потом хватали за шею, за ухо, за волосы и тащили – больно так! Тащили в лабораторию, забирали у нас кровь, и отводили обратно. Одни немцы были ничего, добрые – больно не делали – за шиворот, или за руку возьмут, отведут. Еще потом, после того как кровь возьмут, давали нам такие маленькие шоколадные медальки, угощали нас.
А другие немцы были такие злыдни – не передать. Так больно они нас таскали. Особенно больно было, когда за ухо вели. Тащат и ругают: «Киндер-партизан, так ведется! Киндер-партизан!» Такие злодеи! Небось поимели уже встречу с партизанами!
В этой деревне мы лишились матери – она заразилась тифом и умерла. Так мы остались круглыми сиротами. Старшая сестра Тоня как могла заботилась о нас.
Когда немцы поняли, что русские уже и тут наступают, скоро вышибут их – бои в округе начались, фрицы стали подобрее, и нас из конюшни рассели по домам деревенских жителей, а конюшню сожгли. Мы думали, они ее вместе с нами подожгут, но видно им уже не до нас было – наша армия быстро продвигалась. Пришли – разбомбили, растребушили этих немцев, много их положили. Наши солдаты просили старших помочь им закапать эти трупы.
Жизнь после освобождения
Какое-то время мы жили в деревне Мехово у одинокой немой женщины. Дом у нее был большой, и в этом доме расположилось несколько семей. Но есть было нечего, и мы по миру ходили, по соседним деревням просили подаяния. Тоня с нами не ходила, стеснялась. А мы с Валей и Инной ходили. Придем в соседнюю деревню, зайдем в дом, встанем около двери. Кто-то хлебушка даст, кто-то картошинку. Так и кормились.
А потом, когда русские деревню от немцев очистили и сами в ней обосновались, они о нас позаботились. Мы дети, у которых кровь забирали, худющие были, истощенные. Солдаты забрали нас из деревни и отвезли в районный город, где раньше была больница. Военные организовали там госпиталь. Медики нас немножко подкормили, подлечили, и в конце лета 1943 года отправили назад на родину. Дорога оказалась очень долгой.
Солдаты посадили нас на открытую платформу товарного поезда и сказали, до какой станции ехать. Когда мы прибыли туда, Тоня пошла к начальнику станции, и он объяснил ей, что до другого поезда, который пойдет в нужном направлении, надо пешочком пройти через какую-то деревню. И мы пошли. В деревне мы просили еду, и, поев, шли дальше. Много раз мы ехали на товарных поездах. Много раз проходили через деревни, ночевали там – нас пускали, жалели сирот, которые возвращаются из плена домой. Наконец доехали мы до ближайшей к нашему Батуринскому району станции – Канютино, а уж оттуда пешком до своей деревни. Так и пришли домой.
Наш дом уцелел, да и вся деревня тоже – по счастью, не разбомбили её. В нашем доме жила женщина с двумя детьми, звали ее Надеждой, тетей Надей. Она была беженка издалека, из разбомбленной деревни. Ее дом сгорел. А наш долго стоял пустой, вот она и поселилась там. Посадила огород. Когда мы вернулись, уже всё созрело, пора было урожай собирать. Своего у нас ничего не было – одежонка, какая на себе, да еда в желудке. Но приняли нас неплохо. Соседи все обрадовались, что вот мы вернулись. Они поделились с нами, чем могли. Беженка тётя Надя нас приняла, а когда урожай собрала, нам кое-что оставила: картошечки, лука, морковки. Сама она вскоре забрала детей и уехала, и мы остались одни.
В районе узнали, что мы вернулись. Почтальон ходил в нашу деревню, он и сообщил в Сельсовет, а оттуда дали знать в район. И вот однажды приехали за нами из района – забирать нас в детский дом: Валю, меня и Инну. Тоне-то уже 15 лет исполнилось – она в детдом по возрасту не подходила, а мы – да. Мы в старшую сестру вцепились, стали плакать, кричать, что не хотим в детский дом. Все деревенские собрались возле нашего дома, а мы ревём. Соседи за нас вступились, стали уговаривать тех, что из района: «Оставьте девчонок, пусть они дома живут. Мы будем помогать им». И нас оставили. Назначили нам в опекуны соседку – тетю Катю Виноградову, она сама изъявила желание. И денежные пособия нам оформили. Тётя Катя получала их и отдавала Тоне, а уж Тоня распоряжалась, на что потратить. Все же до конца войны мы очень бедствовали. Никакой скотинки у нас не было, хлеба тоже, есть нечего. Мы травку собирали. Тоня парила эту траву в печке, лепила лепешки, и мы их ели. Так и жили впроголодь – трава она же упаривается, лепешек мало было. Соседи приносили нам мелкую картошку и картофельные очистки. Они и сами сидели голодные, а все-таки подкармливали нас, как могли.
Когда окончилась война
А потом война кончилась. Я помню, как объявили конец войны – помню голос Левитана в деревенском репродукторе. Как же мы радовались! Потом из сельсовета и правления колхоза секретарь приехал и все подтвердил. Что в тот день в деревне творилось, не описать!
Когда война кончилась, жить нам стало полегче. Нам дали немецкую корову – черную с белыми пятнами, говорили, что коров этих прямо из Германии пригнали. У нас молочко появилось – вот радость! Тоню часто вызывали в район, давали нам одежду немецкую: всякие штанишки, комбинезончики, кофточки, пальтишки. Все трофейное, присланное из Германии. Ей предлагали разное на выбор, она подбирала по размеру и приносила нам. Мы одевались лучше, чем деревенские.
После войны я, уже десятилетняя, наконец-то пошла в школу, открытую в деревенском жилом доме. Нам прислали учительницу из Казахстана – Александру Степановну. Она поселилась на квартире у соседки напротив нашего дома. Я пошла в первый класс, но были и те, кто успел до войны поучиться. Ребятишек в школу собрали с двух деревень, сидели мы все в одной комнате, и Александра Степановна вела уроки сразу у всех, по очереди давая нам задания. На обед мы брали с собой травяные лепешки. А другие девочки – кто с родителями жил, кого в плен не угоняли – они на большой перемене доставали кто блинчики, кто лепешки из настоящей муки. А я стеснялась и своего голода, и скудной еды – побегаю на перемене и сажусь на завалинку возле школы, сижу, чтоб другим в рот не заглядывать. Но одноклассники с нами делились едой, угощали нас иногда.
После войны пришел из армии брат Саша и женился на нашей учительнице. Она перешла жить к нам в дом. Хорошая была женщина, выучила нас – Валю, меня и Инну. Под ее руководством мы окончили в Кузьмино четыре класса.
А дальше стали ходить в настоящую школу в Шаракино. Там и сельсовет был, и специально построенное школьное здание с отдельными классами. Правда, ходить было далеко – пять километров. Так что вставать в школу приходилось очень рано. В Шаракине я закончила семь классов. К тому времени мой брат и Александра Степановна переехали жить в Казахстан, и там их семья распалась. После развода брат перебрался в Москву и устроился там с помощью родни с отцовской стороны. Отцы-то у нас разные были – он по отчеству Николаевич, а я Ивановна, он Соловьёв, а я Бесова. Работал брат на железной дороге, а жил в общежитии. И когда я окончила семилетку, он меня пригласил к себе в Москву. Мне было 17 лет.
В 1951 году я приехала к нему в общежитие. Оно было смешанное – и женщины и мужчины жили. В комнате у брата четыре мужика, но они хорошо меня приняли, никто против не был. Правда, спать негде. К счастью, они работали на железной дороге посменно. Кто идет в ночь на работу – на кровати того я и сплю. А если на работу никому не надо, значит, я дремлю где-нибудь на кухне за столом. Или кто-то из женщин сжалится, пригласит меня к себе. Общежитие было барачного типа – длинный коридор, общая кухня с большой дровяной плитой. Рано утром приходила истопница и затапливала эту плиту. Готовили на ней по очереди. Сначала я жила без прописки, и поэтому на работу меня не брали. Продолжать учебу я тоже не могла – жить негде, есть нечего, спасибо, если брат накормит или кто-то из мужиков. Какая уж тут учеба! А потом родня брата меня прописала, и я устроилась на Киевский вокзал. Должность моя называлась коммерческий конторщик. Мы переписывали документы: контейнеры приходили с документами – нам эти бумаги приносили, мы их копировали, после чего начальник отправлял грузы по назначению. Так я проработала около года. А в 1952 году перешла работать на автомобилестроительный завод имени Сталина (ЗИС, после 1956-го – ЗИЛ, завод имени Лихачева) в качестве зуборезчицы в цех, где собирали коробки скоростей. Завод выпускал грузовики. У меня было семь разных станков, и я выполняла семь разных операций.
При заводе была вечерняя школа. После работы я бегала на уроки и так закончила десятилетку. Мне было уже за двадцать.
В цеху работа была сдельная, и мы старались побольше заработать. Это дало мне возможность наконец-то съехать от брата – из его общежития. Сначала мы с подружкой-заводчанкой объединились и сняли комнатку в поселке ЗИЛ. Все же это был временный вариант, да и дорого было снимать жилье даже в складчину. Как-то раз меня вызвал секретарь нашей комсомольской организации (я конечно была комсомолка) и спросил, согласна ли я пойти работать на строительство общежития – здесь же в поселке ЗИЛ. Я согласилась. Сначала мы рыли котлован для фундамента – вручную, лопатами. Потом построили первый этаж, и нас сразу заселили туда – в этот недостроенный дом. Так я получила комнату в общежитии. Теперь, когда жизнь более менее наладилась, можно было подумать и о дальнейшей учебе. Я решила пойти в техникум.
Сначала пошла в строительный. Проучилась год, но там мне не нравилось. От девушек из соседней комнаты я узнала про медицинское училище, и мне захотелось выучиться на медсестру. Так я стала студенткой медучилища. После его окончания в 1958 году по распределению попала в новую Центральную больницу Минздрава РСФСР на 16-й Парковой улице. Она как раз готовилась к открытию. Мы её и открывали: мыли окна, принимали оборудование. Я стала медсестрой в терапевтическом отделении. Оглядываясь назад, замечу, что эта работа была, пожалуй, самой интересной в моей жизни.
Работая в больнице, я познакомилась с парнем-сибиряком – Александром Алабиным, который впоследствии стал моим мужем. Он работал водителем, потом его призвали в армию. Я стала его ждать. Саша служил в Германии и присылал мне оттуда много подарков: покрывала, коврики, платья, украшения, безделушки. Когда Саша вернулся из армии, мы поженились и стали жить у мужа в семейном общежитии. У нас родился сын. С работы пришлось уйти. К сожалению, отношения с мужем не сложились, он выпивал, скандалил, а потом уехал к родителям в Сибирь. А я осталась с 8-мимесячным грудничком на руках – без работы, без денег, муж мне ни копейки не оставил. Есть стало нечего. Я очень боялась, что пропадет молоко, нечем станет ребенка кормить. Женщины постарше научили меня, что нужно пить чай с молоком, чтоб грудное молоко не пропало. Но молока не на что было купить. Спасибо старшая сестра Тоня приехала из деревни и привезла мне 100 рублей – как сейчас помню, рублевыми бумажками. На рубль в день я покупала бутылку молока, чай и батон, так и питалась.
Потом сынишка подрос, и я устроилась на работу в детский сад – медсестрой, а сына взяли в ясельную группу. Садик был недалеко от нашего общежития. Я заворачивала малыша в верблюжье одеяльце, и на руках несла в детсад. Он плохо привыкал к садику, плакал без меня. А мне нужно было приходить в его группу по работе – проверять моющие препараты, чистоту посуды, горшки, полотенчики, шкафы. Сын завидит меня – и в слезы. Воспитателям приходилось заранее уносить его куда-нибудь, чтоб он меня не видел. Коллектив в садике был хороший, все друг другу помогали. Помню нашу повариху Матрену Афанасьевну, добрую сердечную женщину. Я худющая была, когда сына грудью кормила, она меня жалела. Приду пробу снимать или закладку продуктов делать, а она меня усаживает: «Садись, поешь сначала, потом будешь заниматься».
Переезд в Зеленоград
Как я попала в Зеленоград? Узнала о строящемся городе от мужа – он как шофер привозил на стройку какой-то груз. Город тогда назывался Спутником. Муж и меня сюда привозил, катал на машине, и привез показать, как город строят. Здесь еще и домов-то не было, может, один-два дома стояли. Когда мой сын немного подрос, я стала задумываться о переезде в Зеленоград ради получения квартиры. В 1966 году приехала сюда на разведку, пришла в садик в первом районе возле Быкова болота узнать насчет работы. И меня взяли медсестрой. Пришлось мне временно устроить сынишку в московский детсад на пятидневку, и ездить из Москвы на работу в Зеленоград. В 1968 году я получила двухкомнатную квартиру во втором районе. Хорошая квартира, просторная. Я была рада, до безумия: первое своё жильё! Теперь уже не было нужды работать медсестрой в садике, и мне захотелось вернуться в медицину – к той работе, которая так мне нравилась. Я пошла в больницу, где раньше работала, но меня туда не взяли, потому что в то время вышел указ от городского управления не принимать на работу медсестер из детских учреждений. Они квартиры получили и стали массово увольняться, а в детских учреждениях работать некому. Тогда я поехала в Менделеево, в Менделеевскую больницу. И меня приняли на работу в терапевтическое отделение. Тем временем сын подрос, пошел в школу, а в больнице у меня была посменная работа – приходилось надолго оставлять ребенка одного.
Поэтому в 1972-м мне пришлось расстаться с медициной и пойти работать на «Микрон». Конечно, профильного образования у меня не было, так что я могла рассчитывать только на рабочую специальность, но сложилось несколько иначе. Официально меня оформили на работу травильщицей, и я регулярно проходила обучение, сдавала экзамен, мне повышали разряд, что сказывалось на зарплате. Но в действительности я работала материально ответственным лицом. Сейчас объясню. Вот представьте: работают люди в лаборатории. Им нужны халаты, тапочки, чепчики, спецовки, расходные материалы для оборудования, спирт и многое другое. Как все это получить? Они приходят ко мне, заказывают, записывают, что им нужно. Я оформляю их требования по всей форме и иду к начальнику лаборатории, он эти документы подписывает. Затем иду в отдел снабжения, отдел оборудования или в хозяйственную часть. Там поданные мною требования тоже подписывают начальники, после чего отправляюсь на склад и получаю то, что специалисты заказали. Затем приношу все это заказчикам и выдаю под расписку. Вот в этом и состояла моя работа: что-то получить, что-то списать.
В 1985 году я перешла на работу в 05-й цех – работала там на входном контроле, на испытании деталей приборов и электронной техники. В то время у нас на заводе делали игру «Ну, погоди!» – вот я и проверяла детали этой игрушки, а затем передавала их на сборку. Там у нас была сдельная оплата – для будущей пенсии это было лучше. Мне нравилось работать на «Микроне», хотя и бывало порой тяжело. Но коллектив у нас был дружный, и начальники хорошие, так что годы, отданные микроэлектронике, я вспоминаю добром. Там мне присвоили звание «Ветеран труда». Так я и проработала на «Микроне» до пенсии, на которую вышла в 1990-м году.
Правда, и после выхода на пенсию я какое-то время еще работала – перешла в НИИМЭ «на микроклимат». В подвале здания стояли кондиционеры, а наверху – вытяжки и приточки. Во всех помещениях были термометры, и по ним я следила, чтобы в комнатах была нормальная температура. Регулировала ее в случае необходимости. Так я проработала до 1998 года, когда меня уволили по сокращению штатов. Но и после этого не хотелось дома сидеть. И некоторое время я трудилась консьержкой в одном из домов в 14-м районе.
Моя жизнь не была легкой. В детстве, что называется, хлебнула лиха, в юности мыкалась по общежитиям, всю жизнь много и тяжело работала. У меня в трудовой книжке множество благодарностей за хорошую работу, но сама я не чувствую, что мне есть, чем гордиться. Хотелось бы, чтоб молодым жилось легче, чем нам, чтоб им не пришлось отказываться от любимой работы, чтоб труд был им в радость, а не только приносил материальное удовлетворение.